ИШЬ
Бессветный человек
Иван Кириченко
Иван Кириченко
В РОССИИ ПЕРВИЧЕН ЗВУК, СОГЛАСНЫЙ СТИХИИ БЕСПОЩАДНОГО ВЕТРА
Алексей Смирнов фон Раух
Алексей Смирнов фон Раух
Что выбрать в качестве гостинца, когда идёшь пить чай к нойзеру Ивану, который увлекается записью полевых шумов и заодно оборудовал дома музыкальную студию и мастерскую по написанию икон? Мы с Димой зависли в магазине «Морозко», выбирая между кексом в виде агнца и тортом с марципановыми мухоморами. Собраться с мыслями мешал мой бодун и лихорадка у Димы.
Мы набрали неправильный номер на мобильном и потребовали Ивана, недовольный голос сообщил, что он уложил детей спать, и нам тоже пора укладываться. Вздохнув, решили остановились на киевским торте, но были сомнения: а что, если Иван патриот, в довесок взяли шоколадное пасхальное яйцо с сюрпризом, но что если он сильно верующий?
С опозданием на час мы прибыли в гости. В дверях жена Ивана стояла в пальто, кажется, Иван тоже собирался уходить. Мы простояли молча 5 минут.
Может, зайдёте?
Мы думали, вы уходите.
А вы поменьше думайте. Может, вы хотите чаю?
А вам не нужен иван-чай или полынь? У меня целый мешок есть.
Да у меня свой мешок есть. От заказчика
(Иван протянул здоровенную упаковку чая)
Дима читает состав на этикетке: иван-чай, таволга, полынь… Разнотравье?
Равнотравье… Хе-хе.
Мы набрали неправильный номер на мобильном и потребовали Ивана, недовольный голос сообщил, что он уложил детей спать, и нам тоже пора укладываться. Вздохнув, решили остановились на киевским торте, но были сомнения: а что, если Иван патриот, в довесок взяли шоколадное пасхальное яйцо с сюрпризом, но что если он сильно верующий?
С опозданием на час мы прибыли в гости. В дверях жена Ивана стояла в пальто, кажется, Иван тоже собирался уходить. Мы простояли молча 5 минут.
Может, зайдёте?
Мы думали, вы уходите.
А вы поменьше думайте. Может, вы хотите чаю?
А вам не нужен иван-чай или полынь? У меня целый мешок есть.
Да у меня свой мешок есть. От заказчика
(Иван протянул здоровенную упаковку чая)
Дима читает состав на этикетке: иван-чай, таволга, полынь… Разнотравье?
Равнотравье… Хе-хе.
ПРО РОДИТЕЛЕЙ И СЕМЬЮ
Иван, знаете, у меня всю ночь был озноб, и сон приснился на грани жизни и смерти: что мы с батей и матушкой чай пьём. При том мы с ними так душевно не сидели с самой школы. А я у отца спросил, что самое главное в людях?
А что он ответил?
Ничего. Я проснулся.
Ну, это ещё ничего. У меня матушка сейчас так вообще между мирами. Она сильно старенькая. Я всегда был близок к маме, меня ещё маминым хвостиком называли, я всегда рядом с ней где-то крутился.
Когда она заболела, особо выбора не стояло, я перевёз её к себе. У неё начался Паркинсон. А что самое главное для художника? Писать. В общем, она уже не могла работать руками, мне приходилось доделывать работы за неё. Так я понемногу втянулся в это дело.
Когда я забрал её к себе, брат не понял, зачем я это сделал, в свой адрес я услышал такие вещи, о которых даже и не подозревал. Хотя, наверное, он больше за себя боялся, что ухаживание за больной мамой может лишить его определённой свободы.
Я никогда не учился в художественном училище, а всегда хотел стать профессиональным музыкантом. В то же время иконы окружали меня с детства: мой отец работал в музее Андрея Рублёва и ездил в экспедиции, в том числе и по Русскому Северу, пополнял коллекцию. Правда, меня он ни в одну из таких экспедиций не взял. До того как он пришёл работать в музей, в фонде находилось около 100 икон, а после его прихода стало около 3000. Вообще он всегда хотел оставить мирское и посвятить себя религии — он был очень набожным даже в советское время. Но а я человек «бессветный». Можно сказать, я пишу иконы только потому, что это всегда присутствовало в моей жизни, с самого детства.
В девяностые меня это тоже спасало. Хоть я только начал втягиваться в это дело и был подмастерьем, работал в нескольких мастерских. Моя первая жена изначально была очень хорошим человеком, искусствоведом, занималась нарышкинским барокко. И где-то в 94-ом году она пошла работать к нуворишам репетитором английского языка, вот там она и увидела первый раз в жизни золотые унитазы, мобильные телефоны и тому подобное и кардинально переменилась. Ей нужно было получить достаток прямо здесь и сейчас, я ей говорил, что нужно немного подождать, но она не была готова ждать, вот так мы и развелись. Хотя я старался ради дочки Саши, мы с ней отлично ладили, я переживал, как она будет расти в другом формате воспитания, но ничего. Она человек творческий, не надо было так, конечно. А недавно я ей гитару купил.
Хотя что-то похожее и с братом произошло. Году в 89-ом или 91-ом ему было 18 лет, он косил от армии, лежал в больнице. Как-то он зашёл домой и с квадратными глазами сказал: «Я понял». Дядя Володя спрашивает: «Чё ты понял?» Брат говорит: «К нам щас парня положили, он заходит в палату, достаёт котлету денег, кидает на койку и говорит, что это мы должны прогулять. У него было два ларька со шмотьём на Калининском проспекте. Брат продолжил: «Я понял, сила в этом, если у тебя есть бабло — ты король». С того дня он стал другим человеком.
Так вот из-за мамы я не имею сейчас возможности особо перемещаться. Мне очень нравится локальность происходящего – снимать одно и то же в течение долгого времени. Например, кусок трубы под окном в разное время суток, тени на снегу или на земле, прошлогодней листве или как меняется угол падения света, — все эти состояния очень интересны. Но я стараюсь выходить из дома — сделать всё, чтобы не уйти во внутреннюю эмиграцию.
А что он ответил?
Ничего. Я проснулся.
Ну, это ещё ничего. У меня матушка сейчас так вообще между мирами. Она сильно старенькая. Я всегда был близок к маме, меня ещё маминым хвостиком называли, я всегда рядом с ней где-то крутился.
Когда она заболела, особо выбора не стояло, я перевёз её к себе. У неё начался Паркинсон. А что самое главное для художника? Писать. В общем, она уже не могла работать руками, мне приходилось доделывать работы за неё. Так я понемногу втянулся в это дело.
Когда я забрал её к себе, брат не понял, зачем я это сделал, в свой адрес я услышал такие вещи, о которых даже и не подозревал. Хотя, наверное, он больше за себя боялся, что ухаживание за больной мамой может лишить его определённой свободы.
Я никогда не учился в художественном училище, а всегда хотел стать профессиональным музыкантом. В то же время иконы окружали меня с детства: мой отец работал в музее Андрея Рублёва и ездил в экспедиции, в том числе и по Русскому Северу, пополнял коллекцию. Правда, меня он ни в одну из таких экспедиций не взял. До того как он пришёл работать в музей, в фонде находилось около 100 икон, а после его прихода стало около 3000. Вообще он всегда хотел оставить мирское и посвятить себя религии — он был очень набожным даже в советское время. Но а я человек «бессветный». Можно сказать, я пишу иконы только потому, что это всегда присутствовало в моей жизни, с самого детства.
В девяностые меня это тоже спасало. Хоть я только начал втягиваться в это дело и был подмастерьем, работал в нескольких мастерских. Моя первая жена изначально была очень хорошим человеком, искусствоведом, занималась нарышкинским барокко. И где-то в 94-ом году она пошла работать к нуворишам репетитором английского языка, вот там она и увидела первый раз в жизни золотые унитазы, мобильные телефоны и тому подобное и кардинально переменилась. Ей нужно было получить достаток прямо здесь и сейчас, я ей говорил, что нужно немного подождать, но она не была готова ждать, вот так мы и развелись. Хотя я старался ради дочки Саши, мы с ней отлично ладили, я переживал, как она будет расти в другом формате воспитания, но ничего. Она человек творческий, не надо было так, конечно. А недавно я ей гитару купил.
Хотя что-то похожее и с братом произошло. Году в 89-ом или 91-ом ему было 18 лет, он косил от армии, лежал в больнице. Как-то он зашёл домой и с квадратными глазами сказал: «Я понял». Дядя Володя спрашивает: «Чё ты понял?» Брат говорит: «К нам щас парня положили, он заходит в палату, достаёт котлету денег, кидает на койку и говорит, что это мы должны прогулять. У него было два ларька со шмотьём на Калининском проспекте. Брат продолжил: «Я понял, сила в этом, если у тебя есть бабло — ты король». С того дня он стал другим человеком.
Так вот из-за мамы я не имею сейчас возможности особо перемещаться. Мне очень нравится локальность происходящего – снимать одно и то же в течение долгого времени. Например, кусок трубы под окном в разное время суток, тени на снегу или на земле, прошлогодней листве или как меняется угол падения света, — все эти состояния очень интересны. Но я стараюсь выходить из дома — сделать всё, чтобы не уйти во внутреннюю эмиграцию.
Серия "О памяти" Вячелава Ковалевича, собранная в клип. Звуковое сопровождение - Люди на льду. Композиция сделана специально для этого проекта.
Люди на льду — "Напоминание" с одноимённого альбома 2009 года. Изобразительный ряд — фото Ивана Кириченко
ПРО ДЕТСТВО И ЛЮБИМУЮ ЖИВОПИСЬ
А вы говорили, что вам нравится описывать пустынные ландшафты внутри себя и проецировать их как бы на природу вокруг.
Ну, это так и есть, это как бы сновидческий пейзаж, он уже существует внутри меня как нечто, что хотелось бы выразить. Вообще в школе и юности я был довольно замкнутым, у меня была ещё во-о-от такая шапка волос. Меня довольно часто гнобили сверстники. Но они-то, наверное, не понимали, что я за всем наблюдаю и прекрасно всё запоминаю. В девятом классе я перестал ходить в школу, а потом меня оставили на второй год. И я решил: «А идите вы к чёрту».
Вот вы, наверное, и запомнили, а потом ка-а-ак вылили это на бумагу.
Можно сказать и так.
А у вас книжка Павла Филонова стоит на полке, вы фанат аналитического искусства?
Мне больше нравится его живопись и графика, я вообще не очень люблю теории и конечные суждения, когда человеку говорят, что какое-то явление представляет из себя именно это, но не дают ему развернуться и помыслить. Я в своих работах даю людям пространство для интерпретаций, они могут исследовать его в таком направлении, каком захотят.
Ну, это так и есть, это как бы сновидческий пейзаж, он уже существует внутри меня как нечто, что хотелось бы выразить. Вообще в школе и юности я был довольно замкнутым, у меня была ещё во-о-от такая шапка волос. Меня довольно часто гнобили сверстники. Но они-то, наверное, не понимали, что я за всем наблюдаю и прекрасно всё запоминаю. В девятом классе я перестал ходить в школу, а потом меня оставили на второй год. И я решил: «А идите вы к чёрту».
Вот вы, наверное, и запомнили, а потом ка-а-ак вылили это на бумагу.
Можно сказать и так.
А у вас книжка Павла Филонова стоит на полке, вы фанат аналитического искусства?
Мне больше нравится его живопись и графика, я вообще не очень люблю теории и конечные суждения, когда человеку говорят, что какое-то явление представляет из себя именно это, но не дают ему развернуться и помыслить. Я в своих работах даю людям пространство для интерпретаций, они могут исследовать его в таком направлении, каком захотят.
Использование воспоминаний в работах и ваша графика, пластика лиц напоминает чем-то работы ученика Филонова, Павла Зальцмана.
Да, он крутой, мне ещё понравилась его книжка воспоминаний. Конечно, может, то, что вдохновляет, как-то проникает в работы. Но я к этому не стремился напрямую.
В школе, кстати, директор попросил нас выступить на выпускном с нашей группой. Мы тогда хардкор играли.
И как было?
Да шумно было, директору понравилось.
Да, он крутой, мне ещё понравилась его книжка воспоминаний. Конечно, может, то, что вдохновляет, как-то проникает в работы. Но я к этому не стремился напрямую.
В школе, кстати, директор попросил нас выступить на выпускном с нашей группой. Мы тогда хардкор играли.
И как было?
Да шумно было, директору понравилось.
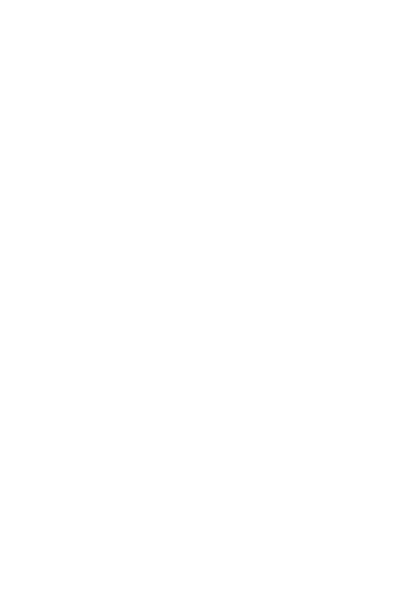
ПРО МУЗЫКУ И 90-е
Где вы музыку доставали?
Да вот в ДК Горбунова, например. При желании, можно было всё достать. В то время я очень хотел научиться играть на каком-нибудь инструменте. Мы ходили к одному продюсеру (я не буду называть его имени), он много полезного рассказывал. Но тут он попросил нас с товарищем сплясать. Я не понял, зачем. Тогда он попросил своего подопечного Николая Носкова сплясать, и он легко согласился. И тогда этот продюсер сказал: вся музыка уже написана, ваша задача — научиться компилировать и обслуживать богатую публику. Вот, если ты не будешь делать, что говорят, ничего путного не выйдет — золотой закон шоу-бизнеса. Тогда я и понял, раз в детстве я не прогибался, так зачем это делать теперь.
Да и к тому моменту кое-что внутри уже накопилось, появилась некоторая осознанность. Как подметил тот же товарищ Масами Акита (Merzbow), у европейцев за музыкальными произведениями стоят жёсткие концепции, а японцы просто пытаются в шуме выразить чувство. Так честнее что ли. Из японцев мне нравится слушать Aube — очень интеллигентный товарищ.
Да вот в ДК Горбунова, например. При желании, можно было всё достать. В то время я очень хотел научиться играть на каком-нибудь инструменте. Мы ходили к одному продюсеру (я не буду называть его имени), он много полезного рассказывал. Но тут он попросил нас с товарищем сплясать. Я не понял, зачем. Тогда он попросил своего подопечного Николая Носкова сплясать, и он легко согласился. И тогда этот продюсер сказал: вся музыка уже написана, ваша задача — научиться компилировать и обслуживать богатую публику. Вот, если ты не будешь делать, что говорят, ничего путного не выйдет — золотой закон шоу-бизнеса. Тогда я и понял, раз в детстве я не прогибался, так зачем это делать теперь.
Да и к тому моменту кое-что внутри уже накопилось, появилась некоторая осознанность. Как подметил тот же товарищ Масами Акита (Merzbow), у европейцев за музыкальными произведениями стоят жёсткие концепции, а японцы просто пытаются в шуме выразить чувство. Так честнее что ли. Из японцев мне нравится слушать Aube — очень интеллигентный товарищ.
ПРО ИНДАСТРИАЛ
Хоть мне и нравились всегда западные проекты типа Bauhaus, Christian Death, Killing Joke, Joy Division, Cabaret Voltaire, Strength Through Joy, группы, над саундом которых работал Билл Ласвелл, хоть и далеко не все из них удачные, но я понимал, что всё это в определённой степени поза и маркетинг.
А как же Пи-Орридж?
Пи-Орридж — классный дядька. С самых ранних его проектов видно, как он оригинально и сложносочинённо мыслит. Но Психическая библия и Храм психической юности — это, знаете ли, такое себе, всегда есть шанс заиграться и забыться. Большей частью это, конечно, мерч, фишки для фанатов, хоть и очень хорошо продуманные. Одно время я очень любил даркфолк, у меня одна из любимых групп — Death in June, можно сказать, бардовская песня под костерок. Сейчас это называется неофолк почему-то.
Как же идеи Заката Европы и смерти Западной цивилизации? Ведь у Death in June музыка жёстко привязана к концепциям.
Сама идея плясать от печки апокалипсиса — это ложное влечение… мне так кажется. Вообще подчинение чужой воли какой-то идее больше напоминает сектантство, я всегда был против этого. Тем же свидетелям Иеговы я никогда дверь не открывал, хотя они и стучались. Да я и против манипуляций в отношениях в том числе.
Как вам удаётся совмещать индустриальную музыку и написание икон? Это же две разные материи: тёмная и светлая, вроде как.
Как я уже сказал, я человек бессветный. Мне это не мешает, я слушаю разную музыку и смотрю разное искусство, всё имеет право на существование, другое дело, что человек позволяет или не позволяет самому себе творить. У меня внутри есть такой фильтр, можно назвать его самоцензурой. Я же не Трент Резнор, у меня не было потребности вести себя как-то вызывающе, нет внутренней необходимости. Но хочу заметить, что тоталитарность — это гибель искусства. Если я буду закрыт, в какой-то момент не достучится тот, кто должен. Для меня важно то, что внутри меня происходит. А мир вокруг меня свободен.
Чтобы писать иконы ведь нужно получить благословение от церкви?
По секрету скажу, что я его и получал. Я верующий человек ещё с глухих советских времён, меня крестили на сороковой день. В моей жизни всё началось с того, что меня отвезли в Троице-Сергиеву лавру к старцу одному, и ещё меня патриарх Алексий благословил.
Вы общаетесь со святыми отцами?
Я стараюсь поменьше с ними контактировать. Мои отношения с Богом — это только мои отношения с Богом.
А как же Пи-Орридж?
Пи-Орридж — классный дядька. С самых ранних его проектов видно, как он оригинально и сложносочинённо мыслит. Но Психическая библия и Храм психической юности — это, знаете ли, такое себе, всегда есть шанс заиграться и забыться. Большей частью это, конечно, мерч, фишки для фанатов, хоть и очень хорошо продуманные. Одно время я очень любил даркфолк, у меня одна из любимых групп — Death in June, можно сказать, бардовская песня под костерок. Сейчас это называется неофолк почему-то.
Как же идеи Заката Европы и смерти Западной цивилизации? Ведь у Death in June музыка жёстко привязана к концепциям.
Сама идея плясать от печки апокалипсиса — это ложное влечение… мне так кажется. Вообще подчинение чужой воли какой-то идее больше напоминает сектантство, я всегда был против этого. Тем же свидетелям Иеговы я никогда дверь не открывал, хотя они и стучались. Да я и против манипуляций в отношениях в том числе.
Как вам удаётся совмещать индустриальную музыку и написание икон? Это же две разные материи: тёмная и светлая, вроде как.
Как я уже сказал, я человек бессветный. Мне это не мешает, я слушаю разную музыку и смотрю разное искусство, всё имеет право на существование, другое дело, что человек позволяет или не позволяет самому себе творить. У меня внутри есть такой фильтр, можно назвать его самоцензурой. Я же не Трент Резнор, у меня не было потребности вести себя как-то вызывающе, нет внутренней необходимости. Но хочу заметить, что тоталитарность — это гибель искусства. Если я буду закрыт, в какой-то момент не достучится тот, кто должен. Для меня важно то, что внутри меня происходит. А мир вокруг меня свободен.
Чтобы писать иконы ведь нужно получить благословение от церкви?
По секрету скажу, что я его и получал. Я верующий человек ещё с глухих советских времён, меня крестили на сороковой день. В моей жизни всё началось с того, что меня отвезли в Троице-Сергиеву лавру к старцу одному, и ещё меня патриарх Алексий благословил.
Вы общаетесь со святыми отцами?
Я стараюсь поменьше с ними контактировать. Мои отношения с Богом — это только мои отношения с Богом.
Дима перелистывает блокнот с рисунками Ивана, на них огромные маски с зияющими пустыми глазницами:
- А это что?
Это? Да это из «Царя Эдипа» Пазолини, мне понравился кадр с забралом шлема — как будто рассматриваешь сквозь эти пустые глаза бездну. Ну, и на языческие маски тоже похоже.
В вашей графике много мотивов от сюрреалистов.
Конечно. Мне де Кирико и Хаим Сутин нравятся, например.
- А это что?
Это? Да это из «Царя Эдипа» Пазолини, мне понравился кадр с забралом шлема — как будто рассматриваешь сквозь эти пустые глаза бездну. Ну, и на языческие маски тоже похоже.
В вашей графике много мотивов от сюрреалистов.
Конечно. Мне де Кирико и Хаим Сутин нравятся, например.
Иван, а почему вы не едите тортик (мы съели по два куска)? Вы же его похвалили.
Я по-вашему ради торта вас позвал?
Разве нет?
Да я пообщаться хотел, я же людей редко вижу, а если кто-то приходит, редко удаётся по душам поговорить. Вообще надо бы, как потеплеет, вас собрать — винца попить. На природе.
А у вас есть домашние заготовки?
Вы хотите сказать, что у вас есть домашние заготовки?
Мы в Ижевске гнали с другом самогон, например. Змеевик сделали из глушителя, но потом заменили его на стеклянный из химического магазина.
Я смотрю, вы подготовлены к жизни в деревне.
Хотя там и не такое бывало в 70-е — 80-е.
А что бывало?
Да пьянство беспробудное, кругом самогон этот. Вымирающие деревни и тот ещё контингент.
Да погодите, разве всё настолько плохо было уже тогда?
Милочка, вы бывали в деревне?
Я жила в селе в Украине в 90-е, и там не было такого масштабного пьянства, как вы говорите.
Украина – это другое.
А вы про что?
Я по-вашему ради торта вас позвал?
Разве нет?
Да я пообщаться хотел, я же людей редко вижу, а если кто-то приходит, редко удаётся по душам поговорить. Вообще надо бы, как потеплеет, вас собрать — винца попить. На природе.
А у вас есть домашние заготовки?
Вы хотите сказать, что у вас есть домашние заготовки?
Мы в Ижевске гнали с другом самогон, например. Змеевик сделали из глушителя, но потом заменили его на стеклянный из химического магазина.
Я смотрю, вы подготовлены к жизни в деревне.
Хотя там и не такое бывало в 70-е — 80-е.
А что бывало?
Да пьянство беспробудное, кругом самогон этот. Вымирающие деревни и тот ещё контингент.
Да погодите, разве всё настолько плохо было уже тогда?
Милочка, вы бывали в деревне?
Я жила в селе в Украине в 90-е, и там не было такого масштабного пьянства, как вы говорите.
Украина – это другое.
А вы про что?
ПРО ДЯДЮ И СВЕШНИКОВА
Про Подмосковье. Я туда к дяде ездил в дом. Мой дядя, Владимир Тихомиров, был большим переводчиком — он переводил на русский «Ригведу», «Беовульфа», «Старшую Эдду», — всё это он помнил наизусть. Как-то в 90-е он прочитал «Розу мира» Даниила Андреева и пересказал мне её по памяти. Это произвело на меня большое впечатление. Ещё он стихи писал, которые я использовал в своей музыке.
У дяди на даче был сосед — Борис Петрович Свешников. Ну, как, сосед, он половину дома занимал. Сколько себя помню, лет с десяти, я рисовал и когда узнал, что сосед — художник, захотел ему показать свои картины. Но когда я подходил к нему, он просто от меня отмахивался и делал вид, что не замечал. Он был довольно замкнутым, под конец жизни так вообще стал мизантропом. Хотя после того, что он пережил, немудрено, конечно.
Свешникова обвинили в покушении на Сталина вместе с художниками, с которыми он учился. Скорее всего, кто-то донёс, и сфабриковали дело, как это бывает. Вот так и схватили его в 46-ом, когда он шёл с бидоном покупать керосин. После он провёл в лагере лет десять. От помешательства после изнурительной работы где-то на лесоповале ГУЛАГа его уберегло то, что он всё время рисовал — садился у тусклой коптилки и покрывал куски жёлтой обёрточной бумаги рисунками. Что он рисовал? Сложно сказать, подсказкой может быть надпись из его лагерного альбома — строчки из Шекспира: «Мы сами созданы из сновидений, и нашу маленькую жизнь сон окружает». От смерти из-за истощения его случайно спас фельдшер, заметивший, в каком состоянии находился Борис Петрович. Его перевели в инвалидный лагерь, где он коротал остаток срока в качестве ночного сторожа. Вот где-то к моменту смерти Сталина он и вышел.
Я увидел у него на картинах то, что приблизительно видел для себя внутри. Это поразило меня до глубины души и врезалось в память. Он был настоящий визионер. Трактовок тому, что я увидел, может быть много. Но вы же знаете, как это бывает. Порой и какая-то закорючка тебя так впечатлит, а другому расскажешь, он и не увидит в ней ничего особенного.
Я увидел у него на картинах то, что приблизительно видел для себя внутри. Это поразило меня до глубины души и врезалось в память. Он был настоящий визионер. Трактовок тому, что я увидел, может быть много. Но вы же знаете, как это бывает. Порой и какая-то закорючка тебя так впечатлит, а другому расскажешь, он и не увидит в ней ничего особенного.
ПРО ПЕРВЫЙ НОЙЗ И ЯПОНЦЕВ
Я на гитаре играл с одинадцати лет. Меня всегда завораживало, когда люди быстро перебирали пальцами. Хоть я и собрал несколько групп, я твёрдо понимал, что таланта у меня нет — не моё это. Внутренней осознанности не было, меня просто пёрло.
Где-то в 97-ом году мне приятель дал послушать Throbbing Gristle, это на меня сильно подействовало. А переломным стал 98-ой год, когда я познакомился с Женей Вороновским, автором проекта Cisfinitum.
Тогда же к нам приехали выступать японские группы Government Alpha, MSBR и американцы Macronympha. Мы попали на их концерт. Я разговорился с японцем, и он говорит: «Помоги мне, поори...» — и протянул микрофон. Так я и сыграл с ними концерт. Это был шок, потому что я всегда подозревал, что есть какая-то альтернативная энергия. Нойз потряс меня тем, что это был чистый энергетический поток, лишённый характерного для рок-музыки вампиризма, потому что здесь личность исполнителя растворяется в шуме. Стоит на сцене офисного вида мужичок, открывает чемодан, где у него генераторы, нажимает кнопки и разносит всё к едреням. Меня это потрясло, и я понял, что таких генераторов я себе не достану, но микрофон и колонка у меня есть. Я взял дисторшн, ткнул туда микрофон, поднёс к колонке и понял, что вот оно, фидбэк — это моё. Потом я это через гитарный процессор пропустил, получилась стена звука, и я стал это записывать.
Где-то в 97-ом году мне приятель дал послушать Throbbing Gristle, это на меня сильно подействовало. А переломным стал 98-ой год, когда я познакомился с Женей Вороновским, автором проекта Cisfinitum.
Тогда же к нам приехали выступать японские группы Government Alpha, MSBR и американцы Macronympha. Мы попали на их концерт. Я разговорился с японцем, и он говорит: «Помоги мне, поори...» — и протянул микрофон. Так я и сыграл с ними концерт. Это был шок, потому что я всегда подозревал, что есть какая-то альтернативная энергия. Нойз потряс меня тем, что это был чистый энергетический поток, лишённый характерного для рок-музыки вампиризма, потому что здесь личность исполнителя растворяется в шуме. Стоит на сцене офисного вида мужичок, открывает чемодан, где у него генераторы, нажимает кнопки и разносит всё к едреням. Меня это потрясло, и я понял, что таких генераторов я себе не достану, но микрофон и колонка у меня есть. Я взял дисторшн, ткнул туда микрофон, поднёс к колонке и понял, что вот оно, фидбэк — это моё. Потом я это через гитарный процессор пропустил, получилась стена звука, и я стал это записывать.
Была такая кассета Moscow Holocaust Soundtrack, я отдал это Денису Данченко, он издал запись на лейбле Insofar Vapor Bulk.

Мне сказали, что людей сейчас интересуют компакт-диски, а ты тут со своими кассетами. Сейчас одна моя часовая кассета где-то в Америке.
Тогда я очень увлечённо этим занимался, Женя тоже. Мы много всего поназаписывали.
Очень интересно было с этим экспериментировать. Достать такую музыку было сложно. При записи я исходил исключительно из собственного ощущения. В итоге это всё растворилось в потоке времени, не могу сказать, что жалею об этом. Внезапно прошлым летом эти первые записи издали. Женя Вороновский мне и пишет: «Иван, ты представляешь, мы с тобой записали одну из первых пластинок индустриального нойза». А я ему говорю: «Женя, иди ты в жопу. Мы просто развлекались». Он ответил: «Но это часть истории». Но я же живу сейчас. Было хорошо, но зачем ностальгировать… Я чувствую себя динозавром.
Женя — консерваторский скрипач, который увлёкся японским нойзом. Он профессионал, он умеет делать красиво, знает гармонию классическую. Поэтому он приходит к какому-нибудь Кооперативу Ништяк и делает им красиво. И все знают, что Женя это умеет. Это называется «профессиональный музыкант». Я говорю без осуждения, просто в такую сторону я никогда не хотел идти.
Тогда я очень увлечённо этим занимался, Женя тоже. Мы много всего поназаписывали.
Очень интересно было с этим экспериментировать. Достать такую музыку было сложно. При записи я исходил исключительно из собственного ощущения. В итоге это всё растворилось в потоке времени, не могу сказать, что жалею об этом. Внезапно прошлым летом эти первые записи издали. Женя Вороновский мне и пишет: «Иван, ты представляешь, мы с тобой записали одну из первых пластинок индустриального нойза». А я ему говорю: «Женя, иди ты в жопу. Мы просто развлекались». Он ответил: «Но это часть истории». Но я же живу сейчас. Было хорошо, но зачем ностальгировать… Я чувствую себя динозавром.
Женя — консерваторский скрипач, который увлёкся японским нойзом. Он профессионал, он умеет делать красиво, знает гармонию классическую. Поэтому он приходит к какому-нибудь Кооперативу Ништяк и делает им красиво. И все знают, что Женя это умеет. Это называется «профессиональный музыкант». Я говорю без осуждения, просто в такую сторону я никогда не хотел идти.
ЧАЙ ВДВОЁМ
В 98-ом году на пике моего участия в профессиональной группе мы подружились с фанатом чая. Жена моя ненавидела его просто, ведь нам всегда было, о чём поговорить. Он мне несколько раз заявил: «Как классно ты играешь, но какой фигнёй ты занимаешься. Зачем тебе этот Deep Purple?» Я отвечал: «Лёша, я не знаю».
И он такой: «Давай я буду чай варить, а ты будешь под это дело играть». Я забил на всё и сказал: «А давай...» Меня долго не отпускали из этой группы. По три часа иногда разговаривали по телефону, они настаивали: «Ведь ты не очень хороший музыкант, а мы тебя взяли...» — они были профессиональные людоеды.
С Лёшей мы стали думать, какие звуки больше подходят под чайные церемонии. Чем больше мы углублялись, тем больше получалось. Играли мы два раза в неделю, то есть регулярно. Он варил чай и шуршал пакетиками, гремел посудой прямо во время выступления, а я играл и нойз и эмбиент. Так и вышло, что мы что-то вроде альтернативной версии «ЧАЙ ВДВОЁМ».
В 2004 году я понял, что вот теперь я занимаюсь музыкой. И когда женился во второй раз, я вздохнул.
В своих работах я часто использую полевые записи — когда у меня появился рекордер, я буквально влюбился в него. Удобство в том, что можно записывать, не уходя далеко — даже дома или в парке. Понимаете, у меня есть внутренняя картинка, которая совпадает с определённой частотой, её я и пытаюсь подобрать в соответствии с образом. Сложнее всего потом убирать фоновые шумы от машин, которые ничем не затираются. Но городские звуки при всём своём многообразии — это очень узкий круг происходящего. А мусоровозы я принципиально не записываю, например, по эстетическим соображениям. Да хоть и бомжей интересно послушать, но я не записываю их из этики. Хочется обойтись без низкого в искусстве. Нужно, чтобы звуковая сфера была чистой. Хотя своя мифология всё равно будет проскакивать, от мифологии же не уйти никуда — это наша почва. Но поинтеллигентнее надо быть.
Конечно, если бы я не писал иконы, я бы уже заполонил всё своим искусством. Это отлично сдерживает. Я давал концерты и в Музее русской иконы. Играл там много раз на втором этаже, где смоделировано алтарное пространство. Проблем не было, ведь я там пять лет работал в мастерской. В разных местах я играю по-разному, а в музее я исполнял очень холодную, спокойную музыку и околонойзовые вещи пару раз. Я чувствовал себя исполнителем классической музыки и чётко знал, что буду делать. Играл я в полной темноте на фоне освещённого алтаря. Я посвятил это выступление своему учителю художнику
Б. П. Свешникову, сыграв в день его рождения.
И он такой: «Давай я буду чай варить, а ты будешь под это дело играть». Я забил на всё и сказал: «А давай...» Меня долго не отпускали из этой группы. По три часа иногда разговаривали по телефону, они настаивали: «Ведь ты не очень хороший музыкант, а мы тебя взяли...» — они были профессиональные людоеды.
С Лёшей мы стали думать, какие звуки больше подходят под чайные церемонии. Чем больше мы углублялись, тем больше получалось. Играли мы два раза в неделю, то есть регулярно. Он варил чай и шуршал пакетиками, гремел посудой прямо во время выступления, а я играл и нойз и эмбиент. Так и вышло, что мы что-то вроде альтернативной версии «ЧАЙ ВДВОЁМ».
В 2004 году я понял, что вот теперь я занимаюсь музыкой. И когда женился во второй раз, я вздохнул.
В своих работах я часто использую полевые записи — когда у меня появился рекордер, я буквально влюбился в него. Удобство в том, что можно записывать, не уходя далеко — даже дома или в парке. Понимаете, у меня есть внутренняя картинка, которая совпадает с определённой частотой, её я и пытаюсь подобрать в соответствии с образом. Сложнее всего потом убирать фоновые шумы от машин, которые ничем не затираются. Но городские звуки при всём своём многообразии — это очень узкий круг происходящего. А мусоровозы я принципиально не записываю, например, по эстетическим соображениям. Да хоть и бомжей интересно послушать, но я не записываю их из этики. Хочется обойтись без низкого в искусстве. Нужно, чтобы звуковая сфера была чистой. Хотя своя мифология всё равно будет проскакивать, от мифологии же не уйти никуда — это наша почва. Но поинтеллигентнее надо быть.
Конечно, если бы я не писал иконы, я бы уже заполонил всё своим искусством. Это отлично сдерживает. Я давал концерты и в Музее русской иконы. Играл там много раз на втором этаже, где смоделировано алтарное пространство. Проблем не было, ведь я там пять лет работал в мастерской. В разных местах я играю по-разному, а в музее я исполнял очень холодную, спокойную музыку и околонойзовые вещи пару раз. Я чувствовал себя исполнителем классической музыки и чётко знал, что буду делать. Играл я в полной темноте на фоне освещённого алтаря. Я посвятил это выступление своему учителю художнику
Б. П. Свешникову, сыграв в день его рождения.
НИКИТА БЕСОГОН И ЛЮДИ НА ЛЬДУ
Что это за икону вы сейчас пишете?
Это Никита Бесогон, видите, он прогоняет хохлатого беса и этим кое-что сообщает нам о дне сегодняшнем. Я вот нанёс на нимб сусальное золото, останется льняной олифой покрыть…
А вы что, прямо в технике темперы работаете?
А как ещё, я использую сухие порошки из разных видов почв, не подумайте, что я с лопатой бегаю, они уже продаются готовые. Яичный желток я перетираю с минералами, как это делали издревле. Темперой я и картины пишу, зато цвет, можно сказать, сохраняется вечно.
Никита Бесогон сегодня, конечно, как никогда актуален.
У меня за профессиональную жизнь накопилось какое-то количество сюжетов, которые вряд ли кто-то закажет, но есть внутреннее ощущение необходимости написать образ. Как-то я поделился этой мыслью со знакомым про Никиту Бесогона, и так моя работа превратилась в заказ.
Как вы выбирали: писать иконы или их реставрировать?
Мне когда-то сказали: или ты пишешь иконы или мотаешься по всем храмам страны и занимаешься стенописью (настенными фресками то бишь). А потом сказали: или ты пишешь или реставрируешь. Я решил, лучше уж спокойно в своей мастерской писать, да это и всегда хороший хлеб. Хотя я могу и реставрировать, если надо. А реставратором была мама. Первое впечатление детства — 73-ий или 74-ый год: мама сидит и пытается стереть охру. По первому образованию она театральный художник, а по второму — искусствовед, училась в МГУ, там же у неё и родился интерес к древнерусскому искусству. У меня не было бабушек и дедушек, с кем можно было посидеть, но была темпера и охра.
За тем, что я делаю, всегда стоят какие-то конкретные вещи — медитация на исторический период, личные переживания. Я считаю, что мы медиумы, просто это надо собрать и как-то спродюсировать.
Это Никита Бесогон, видите, он прогоняет хохлатого беса и этим кое-что сообщает нам о дне сегодняшнем. Я вот нанёс на нимб сусальное золото, останется льняной олифой покрыть…
А вы что, прямо в технике темперы работаете?
А как ещё, я использую сухие порошки из разных видов почв, не подумайте, что я с лопатой бегаю, они уже продаются готовые. Яичный желток я перетираю с минералами, как это делали издревле. Темперой я и картины пишу, зато цвет, можно сказать, сохраняется вечно.
Никита Бесогон сегодня, конечно, как никогда актуален.
У меня за профессиональную жизнь накопилось какое-то количество сюжетов, которые вряд ли кто-то закажет, но есть внутреннее ощущение необходимости написать образ. Как-то я поделился этой мыслью со знакомым про Никиту Бесогона, и так моя работа превратилась в заказ.
Как вы выбирали: писать иконы или их реставрировать?
Мне когда-то сказали: или ты пишешь иконы или мотаешься по всем храмам страны и занимаешься стенописью (настенными фресками то бишь). А потом сказали: или ты пишешь или реставрируешь. Я решил, лучше уж спокойно в своей мастерской писать, да это и всегда хороший хлеб. Хотя я могу и реставрировать, если надо. А реставратором была мама. Первое впечатление детства — 73-ий или 74-ый год: мама сидит и пытается стереть охру. По первому образованию она театральный художник, а по второму — искусствовед, училась в МГУ, там же у неё и родился интерес к древнерусскому искусству. У меня не было бабушек и дедушек, с кем можно было посидеть, но была темпера и охра.
За тем, что я делаю, всегда стоят какие-то конкретные вещи — медитация на исторический период, личные переживания. Я считаю, что мы медиумы, просто это надо собрать и как-то спродюсировать.
ДЕНЬ ЗАБЫТОЙ ЖИЗНИ
То, что российские нойзеры делали в 90-е — это, конечно, было баловством. Какие-то коллекционеры откопают всеми забытую запись и скажут, что ты изобрёл индастриал в России и впишут в страничку истории музыки, но ты же о таком тогда и не помышлял. Только сейчас люди начинают заниматься подобной музыкой серьёзно, и современная местная шумовая сцена звучит совсем по-другому.
На свой лейбл День забытой жизни (ДЗЖ) я подписываю только тех, кто мне правда нравится. Почему-то очень много талантливых проектов такого плана из Ростова-на-Дону.
А слушаете ли вы сами нойз сейчас?
Понимаете, мне нойза хватает в реальной жизни, так чтобы это слушать ещё как арт-объекты — это пожалуй, сложновато. У меня любимая группа Звуки Му: и в музыкальном плане и в плане подачи — это мне близко. Но а вообще моя самая любимая группа Coil — их можно слушать в любом состоянии души, это та самая музыка на все времена. А для себя я выработал определённый баланс эмоционального и профессионального — это помогает мне выжить как художнику в современном мире.
А такое бывает вообще? — сказал Дима и поперхнулся, перестав скрести пустое блюдечко.
Может, ещё по кусочку тортика?
На свой лейбл День забытой жизни (ДЗЖ) я подписываю только тех, кто мне правда нравится. Почему-то очень много талантливых проектов такого плана из Ростова-на-Дону.
А слушаете ли вы сами нойз сейчас?
Понимаете, мне нойза хватает в реальной жизни, так чтобы это слушать ещё как арт-объекты — это пожалуй, сложновато. У меня любимая группа Звуки Му: и в музыкальном плане и в плане подачи — это мне близко. Но а вообще моя самая любимая группа Coil — их можно слушать в любом состоянии души, это та самая музыка на все времена. А для себя я выработал определённый баланс эмоционального и профессионального — это помогает мне выжить как художнику в современном мире.
А такое бывает вообще? — сказал Дима и поперхнулся, перестав скрести пустое блюдечко.
Может, ещё по кусочку тортика?
Если вдруг вы дочитали этот текст до конца и он вам понравился, вы можете поддержать нас словом или даже рублем вот тут
