ИШЬ
КОЛЛЕКЦИОНЕР
новый рассказ из готовящейся книги Александра Бренера
Это история венского коллекционера.
Звали его Ханс Пуш, но мы с Варькой называли его по-своему: херр Пушка. Когда-то он был большой шишкой на австрийском телевидении, но те времена миновали. Впрочем, он по-прежнему выглядел вроде здоровенной шишки на лбу: синеватый, крепкий, лоснящийся.
Правда, к моменту нашего знакомства эта шишка заметно размякла и съёжилась, оплыла и покрылась трещинами, однако хозяйского вида не потеряла. Деньги у неё водились, причём немалые.
А жила эта шишка в роскошном венском доме в стиле югендштиль — с очень красивой парадной дверью.
Я смутно помню, как мы с херром Пушкой познакомились. У него был сын (он и теперь есть) — мазила весьма посредственный. Сей парень учился в Москве в Строгановском училище и недурно говорил по-русски.
Мы пару раз сидели с ним в кафе «Музеум», наискосок от Сецессиона, недалеко от венской Академии искусств, чей фасад мы однажды покрыли неприличными граффити — свастиками, вульвами и фаллосами. Мы тогда увлекались граффити и желали выразить своё отвращение к этому почтенному учебному заведению. А сами так и не научились рисовать!
Вот через этого-то сынка-художника мы и познакомились с папашей Пушем. Он слыхал кое-что о моих выходках в Москве, и его развеселила история о том, как я вызывал президента Ельцина на боксёрский поединок на Красной площади. Это ему напомнило выходки Артюра Кравана, которого он уважал и публикации о котором коллекционировал.
Да, херр Пушка был коллекционером. Ничего конкретного мы о его коллекции не знали, никогда её не видели. Нам было достаточно того, что он стал покупать наши рисуночки. Разве это само по себе не замечательно?
Наконец-то нашёлся человек — по слухам, настоящий коллекционер, который не просто заинтересовался, а по-настоящему увлёкся нашими лубками и готов был выложить за них небольшие, но осязаемые деньги.
Ура, бурлаки!
Мы в то время рисовали голых девушек-нимф, нимфеток, нимфоманок, нимфо-амазонок, нимфо-страстотерпиц и нимфо-муз.
Это был второй — эротический — период нашего рисования. А первый, политический, когда мы рисовали всякие демонстрации, поджоги автомобилей и насильственные действия, направленные на подрыв существующего строя, закончился. Нам эта тема наскучила, да к тому же никто этих сценок не покупал. Ну и вообще: если ты хочешь подрывать существующий строй, то нужно это делать, а не рисовать.
Мы это и делали.
Рисовать же стоит только то, что ведёт тебя к истокам рисования — к пещерам, в которых жили самые первые рисовальщики: палеолитические художники.
А что они рисовали на своих скалах? Зверей, богов и дев с вульвами. А частенько и всё в одном: дево-зверо-богов.
Звали его Ханс Пуш, но мы с Варькой называли его по-своему: херр Пушка. Когда-то он был большой шишкой на австрийском телевидении, но те времена миновали. Впрочем, он по-прежнему выглядел вроде здоровенной шишки на лбу: синеватый, крепкий, лоснящийся.
Правда, к моменту нашего знакомства эта шишка заметно размякла и съёжилась, оплыла и покрылась трещинами, однако хозяйского вида не потеряла. Деньги у неё водились, причём немалые.
А жила эта шишка в роскошном венском доме в стиле югендштиль — с очень красивой парадной дверью.
Я смутно помню, как мы с херром Пушкой познакомились. У него был сын (он и теперь есть) — мазила весьма посредственный. Сей парень учился в Москве в Строгановском училище и недурно говорил по-русски.
Мы пару раз сидели с ним в кафе «Музеум», наискосок от Сецессиона, недалеко от венской Академии искусств, чей фасад мы однажды покрыли неприличными граффити — свастиками, вульвами и фаллосами. Мы тогда увлекались граффити и желали выразить своё отвращение к этому почтенному учебному заведению. А сами так и не научились рисовать!
Вот через этого-то сынка-художника мы и познакомились с папашей Пушем. Он слыхал кое-что о моих выходках в Москве, и его развеселила история о том, как я вызывал президента Ельцина на боксёрский поединок на Красной площади. Это ему напомнило выходки Артюра Кравана, которого он уважал и публикации о котором коллекционировал.
Да, херр Пушка был коллекционером. Ничего конкретного мы о его коллекции не знали, никогда её не видели. Нам было достаточно того, что он стал покупать наши рисуночки. Разве это само по себе не замечательно?
Наконец-то нашёлся человек — по слухам, настоящий коллекционер, который не просто заинтересовался, а по-настоящему увлёкся нашими лубками и готов был выложить за них небольшие, но осязаемые деньги.
Ура, бурлаки!
Мы в то время рисовали голых девушек-нимф, нимфеток, нимфоманок, нимфо-амазонок, нимфо-страстотерпиц и нимфо-муз.
Это был второй — эротический — период нашего рисования. А первый, политический, когда мы рисовали всякие демонстрации, поджоги автомобилей и насильственные действия, направленные на подрыв существующего строя, закончился. Нам эта тема наскучила, да к тому же никто этих сценок не покупал. Ну и вообще: если ты хочешь подрывать существующий строй, то нужно это делать, а не рисовать.
Мы это и делали.
Рисовать же стоит только то, что ведёт тебя к истокам рисования — к пещерам, в которых жили самые первые рисовальщики: палеолитические художники.
А что они рисовали на своих скалах? Зверей, богов и дев с вульвами. А частенько и всё в одном: дево-зверо-богов.
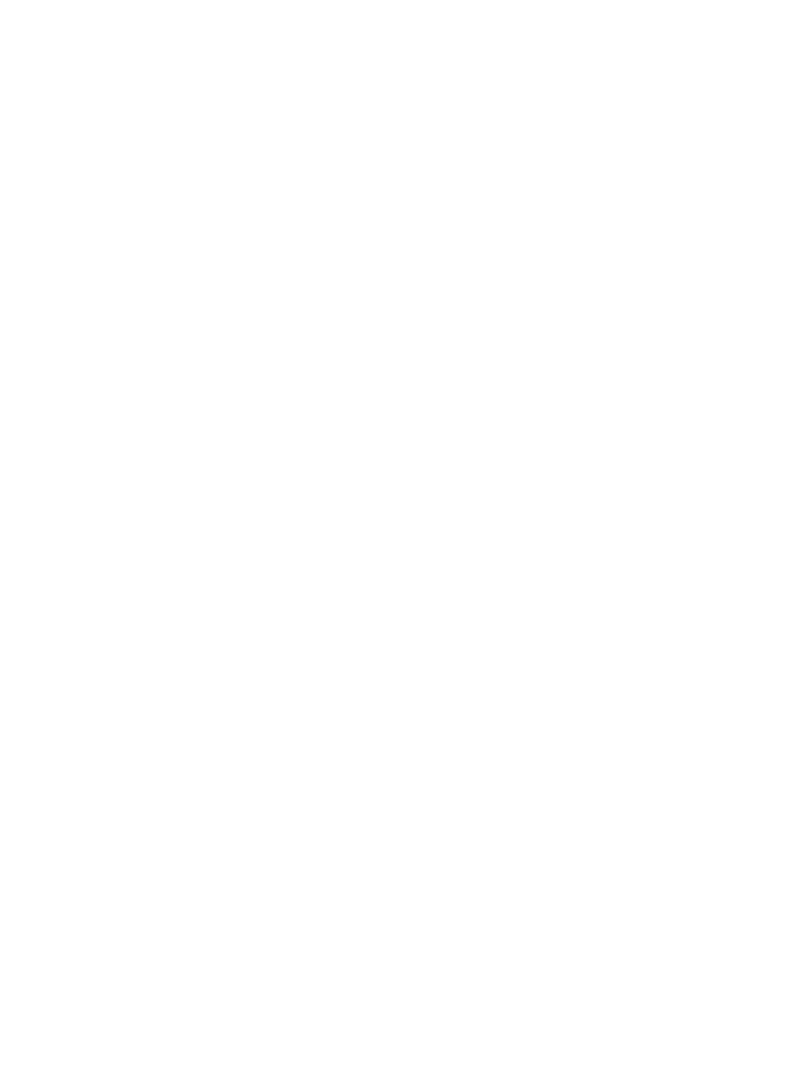
Рисовать стоит лишь тогда, когда то, что ты рисуешь, освобождает тебя от каторги ума и кандалов сердца. И ты в процессе рисования перестаёшь быть собой и становишься амёбой, как Вольс, или девчонкой, как Сай Твомбли.
Мы это пробовали.
При желании наши рисунки можно было назвать примитивными, неумелыми, беспомощными. Но мы от них по-настоящему обалдевали тогда. Нам нравилось захватывать акварель на кончик кисточки и выводить сосок, кинжал или половую губу, а тушью обозначать пупок или глазок. Нередко после этих сеансов рисования мы падали на постель, совершенно разгорячённые. Или шли на какой-нибудь вернисаж и вытворяли хулиганскую выходку. Искусство ведь для того и существует, чтобы возбуждать художника и вываливать на потребителя горы смеха и тонны негодования.
Но возникал вопрос: а дружелюбных существ наши картинки могут растормошить и встряхнуть?
Живы наши рисунки, как жив шмель, укусивший за нос бабу Бабариху в сказке Пушкина?
Это необходимо было выяснить.
И вот тут-то пригодился херр Пушка. Мы продали ему целую кучу рисунков, а в гостях так и не побывали. Обычно он нас сам навещал и выбирал наисрамнейшие, наибесстыднейшие, наищекотливейшие картинки. Например, он обожал изображения голых дев, сидящих на острых предметах — саблях, пиках, колах, кактусах. Это были образы страстотерпиц, испытательниц и воительниц.
Коллекционер всматривался в эти не слишком — то серьёзные произведения, глаза его загорались, рот кривился, пальцы впивались в хрупкие листы, а взволнованный голос произносил: «Я возьму эту и эту. И вот эту ещё». А потом он залезал в карман и извлекал оттуда новенькие ассигнации. И исчезал до следующего случая.
Но однажды херр Пушка пригласил нас к себе: хочу, мол, угостить вас вином и пирожными.
«Ура! — возликовали мы. — Коллекцию его увидим! И наши работы в ней!»
Кабина старинного лифта вознесла нас на последний этаж великолепного строения.
Бывшая шишка австрийского телевидения встретила нас в дверях, ласково осклабившись.
На столе в гостиной стояла закуска, доставленная из лучшей кулинарии города. На стене висел мифологический пейзаж кисти Оскара Кокошки.
Мы выпили.
Херр Пушка принёс несколько книг, посвящённых Артюру Кравану. Это была его любимая тема: поэт-боксёр, искатель приключений, сгинувший без вести.
А затем добрый хозяин пригласил нас на экскурсию по своей коллекции.
Уж не знаю, сколько там было комнат: шесть, семь или более? Каждая из них посвящалась отдельному художнику.
Первая горница была увешана картинами Отто Мюля — знаменитого венского акциониста и основателя экспериментальной коммуны Фридрихсхоф, где девушки и юноши заново учились дикости. Мюль шесть лет просидел в тюрьме по обвинению в педофилии.
У херра Пушки имелись тюремные пастели Мюля: брутальные сценки с поножовщиной и мордобитием.
Было и несколько превосходных эротических картин в карикатурно-красочном исполнении.
Вторая комната посвящалась Гюнтера Брюсу — другому венскому акционисту и изрядному рисовальщику.
Брюс любил изображать всякие перверсивные сценки в традиции спиритуальной арабески и психопатической виньетки, дополняя рисунки небольшими машинописными текстами.
В коллекции херра Пушки имелись и рукодельные книги этого художника. Третья комната была увешана фотографиями разных акций Рудольфа Шварцкоглера.
Это, конечно, свидетельствовало о пристрастии коллекционера к так называемому акционизму и экспрессионизму в изобразительном творчестве.
А мне этот Шварцкоглер никогда не нравился: я боюсь крови, щипцов, бинтов, гробов и самоистязания. И презираю все на свете перформансы. Да и вообще мне вдруг надоело смотреть на чужие работы и приспичило узреть собственные рисунки: а где они? Неужто тоже в отдельной комнате? Но нет — их не было ни в следующей горнице, ни в последующей.
Там висели Альфред Кубин и какой-то австрийский абстрактный экспрессионист со всякими зигзагами и брызгами. А нашим творчеством даже не пахло, сколько не принюхивайся.
В последнем громадном зале с потолка свисала красная боксёрская груша, а стены украшали фотографии Артюра Кравана — несомненного гения.
Мы были разочарованы: недооценённые, непризнанные. А коллекционер тем временем опять потчевал нас вином и закусками. Тут я решил сходить в нужник — помочиться и развеяться. Херр Пушка любезно указал мне дорогу в свою уборную.
Я пошёл и заблудился.
Толкнув какую-то дверь, я оказался в тёмной комнатёнке, пропахшей то ли ладаном, то ли интимными притираниями. Нащупал на стене выключатель — вспыхнула тяжеловесная люстра с хрустальными подвесками.
Это была спальня с чёрными стенами.
В ней помещалась железная кровать, покрытая смятыми, запятнанными простынями.
Ссохшиеся следы на материи не оставляли сомнения: стариковская сперма херра Пушки, коллекционера и безобразника. На полу валялись пивные бутылки, тарелка с остатками курицы.
А траурные стены вокруг кровати покрывали какие-то рисунки в резных деревянных рамочках.
Господи, я сразу и не признал в них наших голых барышень! Они висели под стеклом, в паспарту, аккуратненько — и при этом живые-преживые, как марионетки взбесившиеся.
Мы это пробовали.
При желании наши рисунки можно было назвать примитивными, неумелыми, беспомощными. Но мы от них по-настоящему обалдевали тогда. Нам нравилось захватывать акварель на кончик кисточки и выводить сосок, кинжал или половую губу, а тушью обозначать пупок или глазок. Нередко после этих сеансов рисования мы падали на постель, совершенно разгорячённые. Или шли на какой-нибудь вернисаж и вытворяли хулиганскую выходку. Искусство ведь для того и существует, чтобы возбуждать художника и вываливать на потребителя горы смеха и тонны негодования.
Но возникал вопрос: а дружелюбных существ наши картинки могут растормошить и встряхнуть?
Живы наши рисунки, как жив шмель, укусивший за нос бабу Бабариху в сказке Пушкина?
Это необходимо было выяснить.
И вот тут-то пригодился херр Пушка. Мы продали ему целую кучу рисунков, а в гостях так и не побывали. Обычно он нас сам навещал и выбирал наисрамнейшие, наибесстыднейшие, наищекотливейшие картинки. Например, он обожал изображения голых дев, сидящих на острых предметах — саблях, пиках, колах, кактусах. Это были образы страстотерпиц, испытательниц и воительниц.
Коллекционер всматривался в эти не слишком — то серьёзные произведения, глаза его загорались, рот кривился, пальцы впивались в хрупкие листы, а взволнованный голос произносил: «Я возьму эту и эту. И вот эту ещё». А потом он залезал в карман и извлекал оттуда новенькие ассигнации. И исчезал до следующего случая.
Но однажды херр Пушка пригласил нас к себе: хочу, мол, угостить вас вином и пирожными.
«Ура! — возликовали мы. — Коллекцию его увидим! И наши работы в ней!»
Кабина старинного лифта вознесла нас на последний этаж великолепного строения.
Бывшая шишка австрийского телевидения встретила нас в дверях, ласково осклабившись.
На столе в гостиной стояла закуска, доставленная из лучшей кулинарии города. На стене висел мифологический пейзаж кисти Оскара Кокошки.
Мы выпили.
Херр Пушка принёс несколько книг, посвящённых Артюру Кравану. Это была его любимая тема: поэт-боксёр, искатель приключений, сгинувший без вести.
А затем добрый хозяин пригласил нас на экскурсию по своей коллекции.
Уж не знаю, сколько там было комнат: шесть, семь или более? Каждая из них посвящалась отдельному художнику.
Первая горница была увешана картинами Отто Мюля — знаменитого венского акциониста и основателя экспериментальной коммуны Фридрихсхоф, где девушки и юноши заново учились дикости. Мюль шесть лет просидел в тюрьме по обвинению в педофилии.
У херра Пушки имелись тюремные пастели Мюля: брутальные сценки с поножовщиной и мордобитием.
Было и несколько превосходных эротических картин в карикатурно-красочном исполнении.
Вторая комната посвящалась Гюнтера Брюсу — другому венскому акционисту и изрядному рисовальщику.
Брюс любил изображать всякие перверсивные сценки в традиции спиритуальной арабески и психопатической виньетки, дополняя рисунки небольшими машинописными текстами.
В коллекции херра Пушки имелись и рукодельные книги этого художника. Третья комната была увешана фотографиями разных акций Рудольфа Шварцкоглера.
Это, конечно, свидетельствовало о пристрастии коллекционера к так называемому акционизму и экспрессионизму в изобразительном творчестве.
А мне этот Шварцкоглер никогда не нравился: я боюсь крови, щипцов, бинтов, гробов и самоистязания. И презираю все на свете перформансы. Да и вообще мне вдруг надоело смотреть на чужие работы и приспичило узреть собственные рисунки: а где они? Неужто тоже в отдельной комнате? Но нет — их не было ни в следующей горнице, ни в последующей.
Там висели Альфред Кубин и какой-то австрийский абстрактный экспрессионист со всякими зигзагами и брызгами. А нашим творчеством даже не пахло, сколько не принюхивайся.
В последнем громадном зале с потолка свисала красная боксёрская груша, а стены украшали фотографии Артюра Кравана — несомненного гения.
Мы были разочарованы: недооценённые, непризнанные. А коллекционер тем временем опять потчевал нас вином и закусками. Тут я решил сходить в нужник — помочиться и развеяться. Херр Пушка любезно указал мне дорогу в свою уборную.
Я пошёл и заблудился.
Толкнув какую-то дверь, я оказался в тёмной комнатёнке, пропахшей то ли ладаном, то ли интимными притираниями. Нащупал на стене выключатель — вспыхнула тяжеловесная люстра с хрустальными подвесками.
Это была спальня с чёрными стенами.
В ней помещалась железная кровать, покрытая смятыми, запятнанными простынями.
Ссохшиеся следы на материи не оставляли сомнения: стариковская сперма херра Пушки, коллекционера и безобразника. На полу валялись пивные бутылки, тарелка с остатками курицы.
А траурные стены вокруг кровати покрывали какие-то рисунки в резных деревянных рамочках.
Господи, я сразу и не признал в них наших голых барышень! Они висели под стеклом, в паспарту, аккуратненько — и при этом живые-преживые, как марионетки взбесившиеся.

Озорные, непристойные, скабрезные — одно баловство и дурачество!
Чертовки жили своей тайной, заколдованной жизнью в этой порочной спаленке, а я стоял перед ними остолбеневшим путником. Я был отрезан от них, как Гоголь, принявший святые дары, — от Хлестакова и Чичикова. Но слово даю: жизнь этих девушек не проходила напрасно в опочивальне старого греховодника. Они здесь были уместны, более того — необходимы и призваны. Они дарили жизнь безнадёжно стареющему херру Пушке — бывшей шишке австрийского телевидения. Он повесил здесь эти образы, чтобы их созерцать, упиваться ими, чтобы они его раззадоривали.
Он, конечно же, дрочил на них, мастурбировал! Ох, милостивые государи, святые угодники!
Было в этом что-то от настоящего апофеоза-от искусства безыскусного, но искусительного.
Так когда-то старый венский писатель Петер Альтенберг покрыл стены своей нищей комнатушки эротическими открытками. И каждое утро, просыпаясь, радовался на голых прелестниц и куколок.
И возносил хвалу за них Господу!
Вот ведь как, Фёдор Михайлович: кому Мадонну Рафаэля подавай, а кому — бешеную ягоду.
Чертовки жили своей тайной, заколдованной жизнью в этой порочной спаленке, а я стоял перед ними остолбеневшим путником. Я был отрезан от них, как Гоголь, принявший святые дары, — от Хлестакова и Чичикова. Но слово даю: жизнь этих девушек не проходила напрасно в опочивальне старого греховодника. Они здесь были уместны, более того — необходимы и призваны. Они дарили жизнь безнадёжно стареющему херру Пушке — бывшей шишке австрийского телевидения. Он повесил здесь эти образы, чтобы их созерцать, упиваться ими, чтобы они его раззадоривали.
Он, конечно же, дрочил на них, мастурбировал! Ох, милостивые государи, святые угодники!
Было в этом что-то от настоящего апофеоза-от искусства безыскусного, но искусительного.
Так когда-то старый венский писатель Петер Альтенберг покрыл стены своей нищей комнатушки эротическими открытками. И каждое утро, просыпаясь, радовался на голых прелестниц и куколок.
И возносил хвалу за них Господу!
Вот ведь как, Фёдор Михайлович: кому Мадонну Рафаэля подавай, а кому — бешеную ягоду.
Текст: Александр Бренер
Рисунки: Александр Бренер, Барбара Шурц
Рисунки: Александр Бренер, Барбара Шурц
